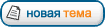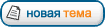Картина с маслом
Художник Александр Ройтбурд рассуждает об украинской культуре и приходит к провокационному выводуДорогой и знаменитый украинский художник Александр Ройтбурд анализирует, что последние три года изменили в стране и его собственной жизни
Екатерина Иванова Секс, страх и смерть — частые темы работ Александра Ройтбурда, одного из самых дорогих и именитых художников Украины. Его провокационные картины — например, портрет Тараса Шевченко с пейсами или изображение половых органов крупным планом — часто балансируют на грани обывательского терпения. Критики называют его “идолом мясной ментальности” за обилие голого тела, а сам художник признается, что от ажиотажа и внимания к этой части его творчества даже устал.
Известность Ройтбурда давно перешагнула пределы Украины: его работы можно найти в Третьяковской галерее, Русском музее в Санкт-Петербурге, нью-йоркском Музее современного искусства.
В 2009 году картина Ройтбурда Прощай, Караваджо была куплена на аукционе Phillips за рекордные на то время для украинского арт-рынка $ 97,5 тыс. Статус самого дорогого художника Украины он удерживал пять лет, пока его не обогнал Анатолий Криволап — в мае 2011‑го его картина Степь ушла за $ 98,5 тыс.
Впрочем, в отличие от большинства своих коллег, Ройтбурд является популярным блогером. В Фейсбуке его остроумные посты на злобу дня читают почти 30 тыс. подписчиков. “Соцсети для меня — отдых”,— признается художник.
Он также взял за правило выкладывать свои работы в интернет сразу после написания — и так получает обратную связь, которой не дает ни один вернисаж.
Одессит Ройтбурд уже несколько лет живет на два города — между Киевом и Одессой. А когда НВ обращается к нему с предложением об интервью, приглашает в свою новую киевскую квартиру-студию на улице Антоновича. В прежней, на Подоле, художнику в последнее время тесно.
Ройтбурд сам открывает дверь НВ и предлагает тапочки — они грудой лежат в большом ведре у входа.
“А нужно будет фотографироваться? Я так не люблю”,— одетый по‑домашнему в джинсы и футболку Ройтбурд ворчит: мол, придется переодеваться, и удаляется вглубь квартиры. Когда он появляется снова, вместо футболки на нем свитер и все те же джинсы.
Ройтбурд позирует на фоне двух громадных полотен из серии Галантный век Просвещения. Перед ним в больших тележках из супермаркета — десятки тюбиков красок. “Украл”,— улыбаясь, художник кивает на тележки.
А еще через пару минут, забравшись с ногами на темно-серый диван, он откровенно и со своим фирменным юмором рассуждает на насущные темы.
Если мы берем цивилизационный вектор, то, наверное, эта власть меня устраивает больше, чем какая‑либо другая, но она все равно плохая. С точки зрения многих бизнесменов, хуже, чем сейчас, еще не было — ни при [Викторе] Януковиче, ни при [Леониде] Кучме. Но я не пессимист. Я реалист: готов к худшему и всегда надеюсь на лучшее. И мало во что верю.
Мы на Майдане — по Жванецкому — все дружили против режима. Режим пал, и выяснилось, что люди, которые вчера стояли по одну сторону баррикад, оказались непримиримыми антагонистами. А ведь еще остались те, кто изначально был по другую сторону баррикад, кто ненавидит все, что пришло и разрушило их комфортное существование.
Языковой вопрос — это кость, брошенная плебсу, дымовая завеса, через которую канализируется общественное недовольство. Я предполагал, что, столкнувшись с какими‑то трудноразрешимыми социальными проблемами, власть отдаст гуманитарную сферу на откуп радикалам. Это и произошло.
Сегодня власть думает, что посредством языковой украинизации, посредством усиления праворадикальной идеологии, посредством культа [Степана] Бандеры она консолидирует нацию. Я считаю, это одна из самых больших ее ошибок, это, наоборот, расколет нацию. Разделение Украины по языку было московской технологией еще перед оранжевой революцией.
Украинского языка в публичной сфере должно быть больше. Когда самый представительный украинский кинофорум [Одесский кинофестиваль] открывается конферансом на русском языке, это неправильно. Когда в одесских ресторанах нет украинского меню, это возмутительно.
Я помню одну вещь, которую мне однажды сказал [российский коллекционер, арт-менеджер и политтехнолог] Марат Гельман, когда я ему гордо показывал документацию для своей выставки в Москве: “Буклеты должны быть на украинском языке”. Мол, если вы привозите в Москву буклеты на украинском, мы понимаем, что вы — отдельное явление. У нас своя иерархия, система ценностей и фабрика статусов и героев, у вас — своя. И мы вас больше уважаем. Иначе вы — наша московская культурная провинция, и мы относимся к вам свысока.
Не нужно заставлять всех говорить по‑украински, важно заполнить русскоязычное пространство украиноцентричными смыслами. Украинский язык должен быть языком власти, публичного пространства, но если при этом государство говорит, что русский — это вообще не наш язык, это язык врага, агрессора — мы сдаем баррикады. Тогда придет агрессор, враг и по‑русски расскажет всем, что тут хунта, а там [на Донбассе] — ополченцы.
Война мало повлияла на мое творчество. Я не считаю, что художник должен быть непременно ангажирован. Во время Второй мировой войны кто‑то рисовал агитационные плакаты, кто‑то что‑то обличал, а [итальянский художник Джорджо] Моранди писал натюрморты. Патриотично создавать хорошее искусство. Для художника взять в руки автомат и идти стрелять — честнее, чем рисовать картинки о том, как другие стреляют.
Начиная от желания что‑то непременно из себя выжать и заканчивая внезапным озарением — так создаются мои работы. Как правило, одна работа и одна мысль тянет за собой прицепом другую, и что‑то недосказанное в одной вещи проговаривается в другой. Аппетит приходит во время еды.
Почувствовал ли я экономический кризис? Мои продажи упали раза в четыре. Сейчас понемногу выравниваются, но не знаю, будет ли так, как раньше. За пару лет до кризиса 2008 года в стране начал формироваться художественный рынок. Будущие инвесторы убедились, что инвестиции в живопись надежнее, чем в недвижимость. Прошло два года, к власти пришли “пацаны”, и тех потенциальных собирателей, которые были уже готовы к современному искусству, просто выдавили из страны.
У меня есть такая психологическая особенность: когда остаются последние деньги, я начинаю паниковать и могу чуть‑чуть демпингнуть. Но я никогда не продавал свои работы даже в тяжелые времена по совсем уж бросовым ценам, как, впрочем, никогда не задирал их выше разумно сбалансированных рыночных. Рынок, в целом,— это высшая справедливость. Но в этой справедливости есть масса исключений — и в ту, и другую сторону. Есть абсолютно дутые, переоцененные художники, есть прекрасные недооцененные.
Всегда с ужасом смотрел на своих родителей, советских инженеров, которые каждый день шли на работу. Я видел, что это им приносило меньшее удовольствие, чем быть со мной или друг с другом. Мне казалось, что они глубоко несчастные люди. И я решил, что у меня не будет такой профессии, при которой я стану настолько от кого‑то зависеть. Когда я сказал, что хочу стать художником, родители были в ужасе, но потом, когда мои работы начали брать на выставки, смирились. Они вдруг поняли: есть шанс, что дворником я работать не буду.
Первую работу, за которую я получил материальную выгоду, написал в Крыму. Это было в 1985 году. Мы отдыхали в районе Щебетовки, возле Коктебеля. Кто‑то ехал на машине в Судак, и я попросил меня подбросить — хотел написать этюд Судакской крепости. Я помню, закончил этот этюд и вдруг понял, что пешком назад не дойду — очень жарко. А машины не останавливаются. И я обменял этот этюд на бокал холодного пива и деньги на такси.
Как только я занялся живописью, начал улавливать какой‑то эротизм, хотя тогда еще не знал, что это так называется. Еще в художественной школе осознал, что меня возбуждает не форма, а цветовая среда. И это для меня до сих пор самое интересное. Потом я понял, что живопись — это инструмент для высказывания, что искусство должно быть о чем‑то. Для меня всегда важна содержательная сторона.
У нас происходит дегуманитаризация общества, деинтеллектизация и раскультуривание. Это такой короткий поводок, на котором власть держит общество. Потому что у стада меньше потребностей, и им легче управлять. Стадо легче голосует за то, что им впарят. В стадо украинский народ так и не превратился — Майдан тому пример. Но при этом, когда все усилия человека сводятся к удовлетворению минимальных потребностей, ему не до более значимых обобщений. У него мозги не тем заняты. Это не украинское ноу-хау, то же самое происходит практически на всем постсоветском пространстве.
Нужна ли украинцам культура? Тоже большой вопрос. Понимаете, мы так долго откладывали культуру на потом, говорили, мол, она должна подождать год, два, десять лет, 20, и дождались того, что у общества атрофировалась потребность в ней. За 25 лет в стране не построено ни одного нового музея, ни одного нового театра. Хотя взять наугад под Верховной радой 10–15 автомобилей — вот тебе и новый театр. Мы спокойно воспринимаем, что власть для себя выставила планку стандартов на уровне персидских шейхов, а культура — ну, я думаю, в Уганде получше будет.
Украинские художники находятся вне европейского процесса. Мы локальное явление, существующее на локальном рынке за редким исключением. Большинство исключений — это люди, которые только формально прописаны в Украине, а живут на Западе. Для того чтобы активно существовать в европейской рыночной ситуации, там надо находиться. С нашим визовым режимом свободно перемещаться из Украины в Европу и обратно — это нереально. Страна неизвестно когда откроется и неизвестно насколько. Мы по‑прежнему за железным занавесом.
Если что‑то и является фактором, тормозящим возможность украинского искусства говорить с мировым на одном языке, то это общие консервативные вкусы нашего общества, провинциальность и отсталость контекста. Это не значит, что мы специально под него подстраиваемся, но волей-неволей мы вынуждены его на подкорке как‑то учитывать. Художник — это такое сенсорное животное. Он субъективен.
Эмиграция — это не то, что в советское время: уехал — значит, предал родину. Для человека переезд — достаточно серьезный стресс. Жизнь у человека одна, если есть возможность ее реализовать вне родины, никто его не вправе осуждать. Если люди уезжают, претензии скорее к государству, которое не смогло при очень хороших стартовых позициях за 25 лет создать для человека комфортную среду.
У нас до сих пор чудовищный разрыв между богатыми и бедными, большинство населения живет ниже стандартов цивилизованного общества, разрушена медицина и образование, нет социальных лифтов. Поэтому можно, конечно, сказать: я люблю родину и мне плевать на мою жизнь. Но если у кого‑то другая точка зрения, он имеет и на нее право.
Россия, пока не начнет распадаться, из Украины не уйдет, и мы обречены на экономику, где каждый наш шаг будет уязвимым для блокировки из‑за рубежа. По этой же причине перспективы интеграции цивилизованный мир все более и более призрачны. Но, несмотря на это, мы не стали периферией цивилизационного процесса. Мы медленно ползем в правильном направлении, хотя куда лучше было бы туда бежать.
http://magazine.nv.ua/article/post/4722 ... a-s-maslom