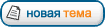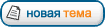Многие скажут, а зачем нам знать о них, у нас свои герои. Это правда. Пока одни защищали мир, другие несли в него войну. Я оказалась среди вторых. Нет, нет. Я не проповедовала войну, не разжигала ненависть к Украине, я просто волей судьбы оказалась на территории этих людей, хотя с рождения считала эту землю своей любимой, малой Родиной. Оказалось, что теперь у каждого своя родина и каждый над ней видит свой флаг.
Люди войны. Можно ли это применить к тем, кто оказался заложником территории? Можно ли говорить о тех, кто не воевал, не призывал, а жил, работал, выполнял свой долг, но был поглощен войной? Можно ли говорить "они призвали войну" обобщая людей, ограничивая их границами? Жернова войны просто пожирают свою жертву не спрашивая партийность, вероисповедание, статус в обществе, им все равно на чьей ты стороне, им даже всё равно, что жертва не согласна. Мы все теперь "люди войны".
Я родилась на Донбассе сорок лет назад. Тогда здесь был мир, который не делился на укров и рашистов. Я жила здесь, как миллионы других людей, любила свой пыльный антрацитовый край, взрослела, писала стихи, бегала на свидания, училась слушать степь, понимать язык трав, родила детей и учила их любить свою землю.
И вдруг мою обычную и ни чем не примечательную жизнь обожгла русская весна 2014 года. С первого её дня, я ищу ответ на банальное "почему". Я раскапываю, вскрываю, констатирую, фотографирую, изучаю души, судьбы, ситуации, факты. Мне кажется, это важно. Врага, причины и мотивы его поступков нужно знать, нужно понимать и чувствовать врага сердцем.
Я ловлю себя на мысли, а врага ли? Соседи, друзья, кумовья, знакомые, сослуживцы… могут ли они быть моими врагами? Нашими врагами? А могут ли быть "сепы", "ватники", "ополченцы", "любители русского мира" в той, другой стороне? Может ли человек быть врагом человека? Может ли человек, рожденный в Украине ненавидеть Украину? За что можно ненавидеть свою страну, землю, окружающих тебя и даже родных людей? Что является корнем ненависти? Что принесла война и кто развязал войну? Могла ли начаться война в другой области Украины? Куда дойдет она? Чья жизнь рассыплется в её жерновах?
Страшные вопросы. Я боюсь получить на них ответ…
Таня. Ровеньки. Мне позвонили знакомые. "У нас ЧП, Таня умерла. Ну, помнишь её, маленькая такая на блокпосту".
Я вспомнила её по ярким новостным сюжетам и видео в You Tube, где она, сияя праведным антибандеровским гневом, призывала обратиться к Путину. "Россия нас не бросит", - кажется так звучали её слова. Но больше она мне запомнилась по Дьяковскому разъезду.
На этом блокпосте я оказалась во время одного из богослужений, который в мае этого года проводил священник местной епархии, благословляя ополчение на защиту Ровеньков.
Меня тогда потрясло многое. Сюрреализм из войны и веры. Тот, кто должен нести любовь, благословлял на убийство. Люди в камуфляже, с автоматами наперевес, с бутылкой пива в руке, слушали вполуха проповедь, периодически отхлёбывая пиво из горлышка и переговариваясь по рации.
Священник рассказывал об ужасах, нависших над православием и русским народом, о страшных фашистах, идущих на наши города из Львова, отрядах католиков-правосеков, плане госдепа по наполнению хранилищ органами православных людей.
Изредка и невпопад поддакивающие ему камуфляжные люди пили "Черниговское", "1715" и курили явно не российский "Винстон". Из русского на этом блокпосту были казаки, куча оружия и русский флаг. Из православия иконы и крест.
Рядом со всем этим, словно дополняя сюрр и переводя его в кич, наполняя абсурдом и безумием, на коленях среди бетонных плит, автоматов и икон, обвитых искусственными цветами, стояла дрожащая, то ли от гнева, то ли от религиозного трепета, женщина. Она смотрела на проповедника глазами полными слёз и преданности, часто крестясь и практически сливаясь с землёй в коленопреклонении.
В её глазах, фигуре, жестах было столько покорности, что мне стало стыдно и страшно. Стыдно, что я подсмотрела обнаженность молящегося человека, страшно, что от всего этого веяло нездоровым фанатизмом.
Маленькая, щупленькая, скромно одетая Таня. Она была на всех митингах "против бандер". С первого дня. В первых рядах. Она готовила и стирала, кормила, поила, бегала за сигаретами для "защитников", покупая их на свои деньги, вынесла из дому вещи, консервацию, запасы.
Она была одержима победой православия и действительно ждала Путина.
"Россия нас не бросит", - так начинался её путь в никуда. "Россия не имеет права нас бросить", - как-то растеряно звучало в середине пути. "Россия придет, надо верить и она придет", неестественно звенело пустотой в конце взрыхлённой траками танков дороги. Она верила. Но...

Бандеровцы в город так и не приехали, Путин не пришёл, Россия о ней не знала, вернее, России было все равно, есть ли "Таня" на земле. Зато пришли грабежи, казаки и голод.
Она боялась выходить из дома, чтобы не попасть под соседское "ну и где твое обещанное счастье", а потом всё же вышла…через балкон...
Знал ли священник, использовавший доверие прихожанки в своей игре, о смятении её души, о разочаровании, о мыслях, с которыми она ставила стул к перилам балкона, я не знаю и не берусь судить. Здесь у каждого своя война. Свои жертвы, свои пленные, своя стратегия. Я уже давно понимаю, что война идёт не только на поле боя и ведется не только оружием...
Палыч. Червонопартизанск.Его все называли Палыч. Даже молодежь. Это высшая степень уважения и признания в среде шахтеров. На участке он был "батя" или "палыч", а его слово - закон. О таком авторитете в 35 лет среди горняков можно только мечтать. Пик молодости, карьеры. Спортзал, бассейн, бокс. Красавица жена модельной внешности, улыбчивая, сероглазая. Двое пацанов. Погодки. Фото в соцсетях: Ялта, Гурзуф, Новый свет, Египет, Турция, Тунис. Квартира, новенький "паджеро".За таких говорят, сделал себя сам. Из семьи горняков, так сказать, династия.
В начале мая после смены кто-то крикнул "в город приехали правосеки, будут насиловать наших баб и заминировали памятник Ленина".
Смена, не помывшись в бане, рванула в город. Кто на машинах, кто на шахтном автобусе, подгоняя шофёра и пропуская остановки. Дрожали руки от предчувствия крови, уши закладывало от нахлынувшего в мозг адреналина.
Когда увидели возле памятника людей, выпрыгивали из автобуса на ходу, предвкушая драку.
Оказалось возле монумента такие же, как они, шахтеры, только с других шахт. Им сказали, что правосеков спугнули и они позорно бежали, а подошедшие люди долго рассказывали о зверствах в других городах, сокрушались, что вот, мол, и до вас горе дошло, предложили защищаться.
Так создали первую самооборону, которая на своих авто и за свои деньги охраняла город. Им привезли оружие, но они не спросили "кто и откуда", все были на взводе. Так Палыч стал командиром. Его снова все уважали.
Теперь он приходил домой с другой работы, вместо сумки с "тормозком" вешал на вешалку в прихожей автомат, чтобы подхватить на руки, встречающих его пацанов.
Сменилась тематика фоток в соцсетях. Он, жена, дети и автомат Калашникова.

Когда ему позвонил его сослуживец, Палыч также не спеша снял с крючка автомат, поцеловал жену и детей, поставив на стол недопитую бутылку пива, пошел по делам. Ему позвонил Витюха, который отработав смену и выпив с мужиками, ехал домой. Почти у самого подъезда нарвался на патруль "народного ГАИ". Объяснения "пацаны, я свой, вот ксива, я воевал, мне пох, пил за победу" не устроила блюстителей порядка и ему предложили покинуть авто, которое по новым правилам забиралось на военные нужды. Чтобы спасти машину и доказать "кто есть кто" Витюха и позвонил Палычу…
Тихий полдень, центр жилых кварталов, солнце, небо, дети, люди, выгуливающие собачек или спешащие по делам… резкие автоматные очереди... крик… визг тормозов… кровь… накрытые тела…Это тоже война.
Палыч не уступил машину своего пьяного сослуживца "сотрудникам народного ГАИ", он верил в то, что он тоже власть и авторитет, а ещё он должен был сохранить авторитет в глазах Витька…
Палыча похоронили как героя, погибшего от рук нациков, защищая покой Новороссии. Пришедшие на похороны шептались, но поддерживали легенду. Все говорили пафосные речи, но никто не мог вспомнить его имени.
У могилы молчала жена. Она стояла как-то отдельно от всех, не плакала, через её огромные почерневшие глаза на мир смотрела такая же почерневшая душа. Тихая и молчаливая, как осенний день.
Витюха лежит в больнице. Его мать больше всего боится, что он выживет. "Как он будет жить, зная, что его расстреляли свои", - говорит она...
…Могут ли люди быть марионетками? Да! А кукловодами? Да! Мы, люди, марионетки-кукловоды сами ведем себя за ниточки тщеславия в мир иллюзий. Мы впускаем в свои души страх, строим для себя новое пространство из своих убеждений или заблуждений. Блуждаем по нему, забывая о настоящем мире. Мы ведем бой с ветряными мельницами и придуманными великанами. Мы такие, какими видим себя сами, и таков наш мир. Мы сами принимаем решения, кого нам судить за них?!
Андрей. Свердловск.Я думала, что страшнее звонящих в степи после боя телефонов, я вряд ли что могу услышать на этой войне. Я ошибалась. Война многогранна. Она гримасничает страхом, меняя лица, смысл и форму.
"Тётя Лена, это Инна, а вы бы не могли к нам прийти, у нас папа повесился", - спокойный детский голос в телефонной трубке. Чистый, без ноты истерики, слез, осознания потери, словно расставляющий на полочки чашечки. Как он страшен этот голос, ночью, в телефонной трубке.
- Скорую вызвали, - говорю я спокойно, чтобы не испугать.
- Да, - отвечает голос.
- Кто ещё дома, - я уже почти одета.
- Мама, Катя. Они с папой, а я звоню. Я всё делаю правильно, - уточняет голос.
- Да, родная, правильно, - захватывая, даже откусывая, почему-то ставший твердым воздух на бегу, говорю я, - я уже иду…
Андрей шахтер, не сепар, не терр. Шахтер. Когда его бригада сбежала воевать, он сидел в шахте по 3 смены. Пил кофе литрами, чтобы не заснуть. Шахту топило, нужно было следить за моторами, спасать. На работу под снарядами, дома под ГРАДАМи.
Потом, когда набегавшись по гуманитарным лагерям или блокпостам, явились его товарищи, он оказался изгоем. Он не воевал. Его троллили, ведь он оказался трусом. У него не было дома автомата, он не ездил на отжатой машине. У него вообще не было машины, он еще на неё не заработал.
У него была жена, сын и две дочки, хозяйство, ремонт дома, больная мать и его больная нога, которая плохо сгибалась в колене. Чтобы работать на хорошо оплачиваемом участке, он давал врачам взятку, чтобы те, закрывали глаза на его артроз. Начальство боготворило воевавших. А его поставили на менее оплачиваемую работу, потом сказали, что из-за войны нужно идти в бесплатный отпуск. А дома были дети. Голодные дети…
…Я включаю телевизор. Уже 9 месяцев с экрана идет агрессия, пропаганда насилия и войны. Война заменила нам жизнь. Мы ничего не видим вокруг кроме войны. Даже мирная жизнь уже страшит нас. Россия не дает дышать, давит информацией крови и паники.
На Донбассе страх был всегда. Он не связан с войной. Страх ведет шахтера по шахте. Там без него нельзя. Бесстрашие порождает беспечность. Как только ты перестаешь бояться, ты нарушаешь технику безопасности и всё. Подземный мир не прощает бесстрашия. Страх в крови шахтера, в нерве, в каждой клетке. 1200 метров темноты. Ты и твой луч от канагонки, вот и всё, на что ты можешь рассчитывать. Если он гаснет, гаснет жизнь.

А там, наверху ты смотришь телевизор, не выходя из состояния страха. Мы находимся в этом состоянии около 6480 часов.
Нас пугали голодом и безработицей, Майданом и Украиной, вуйками и украми, концлагерями и забором органов, закрытием шахт и уничтожением городов, сланцевым газом и буферной зоной, распятыми младенцами и консервами из людей, неграми и югославами, сербами и албанцами, нацистами и фашистами, фосфорными бомбами и настоящими ГРАДАМи…
Война разделила нас на тех, кто "за", и тех, кто "против". И большая половина тех, кто "за/против" уже не понимают, почему они "за/против".
Мы все, а многие и не по своей воле оказались в котле этой войны, нас всех объединил страх. У каждого он свой, как и война. Это страшно жить в страхе...
… Всё чаще задумываюсь о том, какими мы выйдем из этой войны. Людьми ли, человеками?! Перемены, происшедшие с окружающими, разительны.
Мы прожили Майдан, Крым, "русскую весну", "холодное лето" и "русскую осень". Мы видели четверо выборов и предательство местной власти. Мы ощутили все прелести преследований, угроз. А ещё обман любителей русского мира, войну, потери, нищету.
Переоценка событий происходила быстро и мучительно больно. Мир рвался по живому, оставляя за собой не только шрамы. Близкие люди в один миг стали чужими. Чужие и незнакомые стали родными и близкими.
Сначала было невыносимо страшно, потом невыносимо больно. Сейчас?! Сейчас всё просто. У каждого своя война, правда, мерило и своя чаша терпения. Мне кажется, что война просто материализовалась и приобрела формы. Мы стали ощущать врагов, различать своих и чужих. Ушло ощущение нелепости вражды между окружающими тебя людьми. Мы осознали, что мы здесь все русскоговорящие и все разные.
Раны от предательства стали затягиваться быстро. Больше нет неожиданностей, ты его ждешь. Оно здесь маленькое, гаденькое, в мелочах, но каждый день.
Идешь по городу и боишься, что подойдет кто-то знакомый и выльет на тебя ушат информации о кровавой хунте, а потом спросит, как ему оформить пенсию в Харькове. И вроде защемит сердце, но сразу отпустит, закроется от глупости безразличием. Оно устало болеть.
Уже больше не переживаешь, чем живут некоторые твои знакомые или соседи. А зачем? У них автомат и русский мир. И счастье они сами себе выколачивают.
Больше не плачешь, прощаясь с разъезжающимися друзьями, а отпускаешь, в надежде, что они помогут тебе вырваться на свободу.
Стряхиваешь, как пыль, ненужную информацию, пустые слова, лживые фразы. Просто выслушиваешь и констатируешь сообщения о чьей-то смерти. Война высушила нас изнутри.
Наши души, как сентябрьские степи, ещё живые, но безмолвные и бесцветные. На сердце трещины в ладонь, как на высохшей от безводья земле. Взгляд цепкий, как колючки татарника. Мы не прячем головы с седыми прядями ковыля и не отводим глаз с поволокой из тумана. Мы черствеем, холодеем, закрываясь от окружившего нас безумства.
Я уже спокойно прохожу мимо накрытого плащ-палаткой тела в камуфлированной одежде. Секундный взгляд фиксирует колорадскую ленту на автомате. Иду дальше. Не за кем переживать.
Возле магазина льют слезы поселковые любительницы русского мира. Голодают. Нет пенсии, лекарств, угля. Мимолетное скольжение по лицам: эта рассказывала об органах, изъятых у её родни, счастливо переехавшей Одессу; эта - о сваренных и съеденных младенцах Новосветловки, а эта дралась в очереди за хлебом. Я иду мимо. У меня есть, кого пожалеть.
Это жестоко, но справедливо. Мир разделился, и если это не принять, можно погибнуть.
А вот ненависти к тем, кто на митингах звал сюда русских спасателей, стоял на дорогах с иконами, угрожал, громил, бил и плевал в след, нет.
Я не научилась тратить свою жизнь на негатив. Я до сих пор не определила, что чувствую по отношению к ним. Жалость?! Брезгливость?! Нет. Скорее это пустота. Просто нет эмоций. Констатация чужого выбора, не более.
Я, как и многие несогласные с происходящим уже не спорю и не доказываю. Просто прохожу мимо, опасаясь прикоснуться к этим заражённым непонятной болезнью людям. И это ощущение у тех, кто так же прячет на груди желто-голубую ленточку. Мы радуемся выздоровлению города, когда видим проукраинские надписи и флаги-граффити, грустим, если видим совершенных потеряшек, ужасаемся, когда сталкиваемся со стеклянными глазами зомборашенных.
А вот незнакомые люди стали роднее знакомых. Мы, слившись слезами и скипевшись нервами, теперь тайно встречаемся. Пароли. Явки. "Тс-с-с-с! Не называй себя. Не называй. Главное, что ты есть и ты рядом" - так говорят те, кто приходят на так названные "единодумкы". Дожились. Раньше были квартирники, посиделки, девичники, а сейчас "единодумкы".
Люди на своей земле разговаривают шепотом, оглядываясь по сторонам. На одной из таких недавних встреч, в осеннем парке, тихонько читали Костенко, Низового и Стуса. Раньше это было не важно. А сейчас, как последняя капля веры. Как истина. Как молитва.
Мы счастливо смеялись от того, сколько пророческого в стихах? и от того, что именно теперь в оккупации есть время и желание читать. Да, незабываемо удивительно чувствовать себя диссидентом холодной осенью 2014 года в Украине.
Моя знакомая из "единодумкы" работает в библиотеке. Говорит, в городе вырос спрос на книги украинских писателей. Люди с жадностью читают книги о Донбассе, людях, тайнах, его истории. Читают и о Донском казачестве, пытаясь узреть истоки или рассмотреть корни разрекламированной станицы, в которую хотят превратить город.
Посетители стыдливо мнутся, приглядываются к окружающим, озираются и, оставаясь наедине с библиотекарем, как с исповедником, просят что-нибудь почитать о Бандере, истории Украины, о Крыме, о наших степях, шахтах, легенды нашего края. Читают и местных поэтов, удивляясь, что не знали, какие люди жили рядом с ними.
Люди ищут возможность выйти к свету, не шагнуть в эту пропасть ещё дальше.
Все понимают, ещё шаг и всё. Мы застыли над пропастью во ржи, хотя нет, над пропастью во лжи, подталкиваемые в спину автоматом. А судя по последним залпам наехавшей техники, то в спину упирается уже далеко не автомат.
На днях заходила в церковь. Вдруг резко захотелось вдохнуть веры, смешанной с ладаном, потрескиванием свечей и тихим песнопением. Старушки в мохеровых шапках и пуховых шалях, изрядно потрепанных временем, что-то начищали во время служения, периодически осеняя себя крестным знаменем и подхватывая за хором какой-то псалом. Без эмоций, без света, ровно, слаженно, как куклы. Люди потеряли веру.
Я могу их понять. Здесь долго проповедовали благость русского мира, забыв о благости Господней. Мир любви заменили миром потребления.
А в зоне сейчас высокий процент самоубийств. Об этом не напишут в прессе. Эти домохозяйки, шахтеры, старики, пенсионеры ни кому не интересны были своей жизнью и никому не интересны своей смертью.
Люди гибнут от голода, заледенев от страха, потеряв свет и веру.
На войне много страшных вещей. Но это уже не важно, когда понимаешь, что страшнее всего была довоенная пропаганда. Легкая, ненавязчивая, ежедневная, пропитывающая сознание, отравляющая душу, создающая прочный и мобильный фундамент из страха, сомнений, боли и стремления защититься от всего этого.
На войне много страшных вещей. Много страшных вопросов и много страшных ответов, даже ожидание или поиск их страшит. Какими мы выйдем из этой войны? Людьми ли, человеками ли?