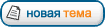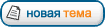|
... Но потреблению сообща произведённого, поскольку оно (потребление), есть сугубо интимный процесс, необходимо должно предшествовать его распределение. И вот это распределение материальных благ является для людей второй по значимости проблемой после решения задачи их производства. Вся общественная жизнь вертится преимущественно именно вокруг этого стержня. Увы, мы так и говорим: не — "хочешь жить — умей трудиться", а "хочешь жить — умей вертеться". Правильно подмечая, что в обществе благополучие достигается не столько трудом, сколько изворотливостью. Главное — получше устроиться в системе именно распределения, а вовсе не производства благ.
Всеобщий интерес Жизнь — не разовый акт: сегодня поел — и свободен. Есть нужно каждый день. И желательно — не однажды. В распределении благ, равно как и в их производстве, необходим определённый порядок. Каков же может быть этот порядок?
Жизнь общества определяется действиями людей. Люди руководствуются в своих действиях прежде всего личными материальными интересами. И на систему распределения общественных благ каждый из нас смотрит именно с этой колокольни. Всем нам присущ в этом отношении один всеобщий интерес.
Он определён действием всё того же закона экономии усилий. И выражается в стремлении таскать рыбку из пруда без труда. Читатель, конечно, понимает, что это замечание касается не его, но уж окружающих — в точности! Каждая биологическая особь норовит в процессе распределения благ перетянуть одеяло на себя. Ухватить кусок пожирнее. Не брезгуя при этом ущемлением хвоста соседа. Если в обществе имеется некий пирог, подлежащий дележу, то закономерна драка за лучший кусок этого пирога. Если идёт речь об организации какой-то системы распределения благ, то подавляющее большинство людей, подчиняясь своей природе, будет стремиться к тому, чтобы эта система обеспечивала их личное привилегированное положение.
Понятно, конечно, что когда каждый борется за это в одиночку, сам по себе, то, ввиду изобилия соперников, шансов на успех маловато. Да и просто не может быть создана система, которая упорядочила бы такое количество разнонаправленных интересов. Но вот тут-то и обнаруживается тот факт, что борьба за блага ведётся вовсе не порознь. Общество разделено на группы сходных по своему положению людей.
Понятно, что каждая метачасть борется за торжество "справедливости", то есть за господство той системы, которая выгодна именно ей.
Кто же добивается тут успеха? А вот здесь опять же имеет значение внешнее различие групп, то есть уже отмеченные их особое место в обществе, доступ к каким-то средствам воздействия на другие группы и пр. Короче, то, что можно назвать факторами силы. Раз уж идёт борьба, то побеждает, конечно, сильнейший.
Что есть сила? Но что это такое — сила в обществе? Откуда она у той или иной группы? Когда один человек сильнее другого — это понятно. Но ведь не меряются же целые метачасти физическими силами. Типа стенка на стенку. Коли бы так, то в обществе всегда господствовали бы люди физического труда. Их и числом поболе, да и покрепче они будут.
Но в том-то и дело, что общественная сила имеет вовсе не биологическое происхождение. Как в отношении к природе мы берём не зубами и когтями, а орудиями, так и в отношениях между самими людьми — тот, у кого есть оружие, сильнее безоружного. Именно обладание, распоряжение такими орудиями, как орудия уничтожения, многократно увеличивает силу иных групп, ставит их в положение сильнейших в обществе. Это и есть главный фактор.
Второй фактор — организованность. Побеждают обычно не только числом, но и дисциплиной, слаженностью действий. Веники, как известно, легко ломать по прутику, но трудно — целиком. Подчинение дисциплине есть, с одной стороны, сознательное действие, следствие чёткого осознания интересов, которые защищаются. А с другой стороны это подчинение дисциплине есть результат привычки, практического навыка. Метачасти, которые более организованы и сплочены по своим общественным функциям, тем самым и более сильны, влиятельны, могут лучше отстаивать свои групповые интересы.
Третий фактор — специфические навыки. Побеждают, согласно Суворову, опять же не числом, а умением. Раз главное — оружие, то немаловажно и мастерство владения им, а также и способность грамотно вести боевые действия. Побеждает не только организованный, но и умелый.
Четвёртый фактор — богатство, которое даёт возможность купить первые три, поставить их себе на службу. Разумеется, лишь в определённых условиях, ибо в условиях неопределённых непосредственная сила не будет служить богатству, а просто отнимет его.
Пятый фактор — знания, способность влиять на умы, заставлять человека делать то, что выгодно другим, в полной уверенности, что это выгодно ему лично. Понятно, что этот фактор — наименее надёжный и недолговечный. Практика обнаруживает любой обман. И в конечном счёте всё решает грубая сила. Но в том редком случае, когда знания используются не в личных интересах, когда людей убеждают в необходимости действий, которые им действительно выгодны, знание подкрепляется силой этих людей и становится значимым фактором.
Откуда берётся сила? Все эти факторы силы достаются тем или иным группам не по воле случая. А, отмечаю ещё раз, — в соответствии с выполняемой ими общественной функцией. Производство, выдвигая на авансцену истории те или иные метачасти общества, одновременно определяет их характер с точки зрения силовых возможностей, а тем самым и предрешает вопрос о господстве какой-то одной из них.
Победа определённой группы выражается в установлении таких общественных порядков, которые ей выгодны. Эти порядки суть средства, которыми достигается указанная цель — обеспечение привилегированного доступа данной метачасти к материальным благам.
5. Характерные черты и элементы системы распределения
Поддержание стабильности Как уже отмечалось, общественное распределение не может быть разовым актом, а должно осуществляться параллельно производству благ на стабильной упорядоченной основе. Тот факт, что с первых же шагов общества по стезе функционального деления система распределения приобретает неравновесный характер, придаёт общественным порядкам специфический колорит. Группы людей, добившиеся в борьбе привилегированного положения в этой системе, должны постоянно поддерживать её в таком виде силой. Сила выступает в роли своеобразного противовеса, поддерживающего общее равновесие в обществе, в котором система распределения неравновесна. Без такого противовеса эта система неизбежно разрушится ввиду её несоответствия интересам остальных групп. Метачасть-победитель достигает своей цели лишь в той мере, в какой она достигает господства над другими метачастями. Что для этого требуется?
Узурпация управления Установление каких-то порядков распределения матблаг, правил общественной жизни, обеспечивающих постоянное воспроизводство этих порядков (в частности, охраняющих господствующее положение их адептов), законов, предписывающих людям, что им можно, а что нельзя делать, — всё это невозможно без монополизации управления обществом. Ведь законодательство, установление законов, слежение за правильностью их исполнения всеми как раз и есть функции управления. Если устанавливаемые порядки вредны всем прочим метачастям, то последних необходимо отлучить от этой функции.
Следовательно, в первую очередь метачасть-гегемон решает проблему организации власти в обществе. Решает её, естественно, в свою пользу, создавая и опять же законодательно закрепляя такую систему формирования аппарата управления, которая давала бы ей решающие преимущества.
Управление при этом приобретает политический характер. То есть становится властью, отчуждённой от большинства населения, противостоящей ему, проводящей в жизнь главным образом интересы определённой узкой функциональной группы (частным — в данном контексте частным — образом, конечно, всякое управление как общественно необходимая функция решает и важные для всего общества организационные задачи).
Контроль над средствами насилия Разумеется, такая узурпация невозможна без насилия. Несправедливые порядки надо защищать. Решающий аргумент в этом споре — сила. Ею необходимо располагать. Господствующая группа должна быть заведомо сильнее всех остальных. Или сама по себе, или благодаря монополизации контроля над какими-то орудиями насилия вне себя, которые она создаёт и поддерживает в качестве опоры своего господства.
Государство Органы политического управления обществом вкупе с органами насилия, обеспечивающими такое управление, называются государством. Государство — это аппарат, позволяющий насильственно поддерживать ту или иную систему общественного порядка, которая нужна метачасти, этот аппарат контролирующей. Как человек посредством орудий труда преобразует природу, так и господствующие метачасти силами государства обеспечивают стабильность общества в том виде, какой им требуется, а при необходимости — даже реформируют его. Государственная форма управления присуща обществам, практикующим узкогрупповое неравновесное распределение материальных благ. Форма же самого государства зависит от характера доминирующей группы, от того, каким образом эта последняя может поставить и ставит госаппарат под свой контроль.
Право Определённые порядки, навязываемые доминирующей группой остальному обществу в качестве обязательных для исполнения, обычно формулируются в виде неких правовых норм, законов. В самом термине "закон" подчёркивается его обязательность, необходимость для каждого члена общества руководствоваться его требованиями в своём поведении. Разумеется, право есть лишь сформулированная воля господствующей группы, провозглашённое требование о поддержании и сохранении определённых выгодных для неё порядков; обеспечение исполнения данных законов опирается прежде всего на реальную силу господ.
Идеология Ввиду того что человек — разумное существо и воздействовать на него можно не только физически, но и через сознание, доминирующая группа в качестве вспомогательных средств подчинения использует и методы идеологической обработки. То есть навязывает всем членам общества представления о неизбежности, правильности, справедливости, богоданности и пр. установленных ею порядков. С этой целью создаются, в частности, различные теории общества. А также и вполне материальные общественные институты, специализирующиеся на пропаганде. Идеология, таким образом, обращается к разуму человека, воздействует на его рациональное начало, на интеллект.
Мораль Поскольку поведение людей невозможно тотально зарегламентировать законом, а тем более, эффективно проследить за выполнением последнего ввиду того, что насилием невозможно добиться, например, добросовестного труда, придумана и такая штука, как мораль. Этот институт опирается на психическую природу человека, на свойственную ему эмоциональную потребность в общественном самоутверждении (ведь для человека общество является основной средой обитания), а тем самым — чувствительность к общественному порицанию и похвале.
Господствующая группа старается навязать всем остальным членам общества собственную систему ценностей, критерии оценки хорошего и плохого поведения с тем, чтобы эта система, внедрённая в процессе воспитания в психику, сама направляла поведение личности в нужное русло. Мораль, таким образом, воздействует на эмоциональную сферу человека, на его психику.
Общественное сознание Идеология и мораль вкупе составляют систему общественного сознания, ибо только они бывают специфичны и обслуживают нужды конкретного общества, конкретного общественного порядка.
Безусловно, психическая и интеллектуальная жизнь человека гораздо богаче: весь он (как вещь) не охватывается обществом. Но все феномены этой не общественной, частной жизни сознания суть уже достояние личности и человечества вообще, а не общества как такового. Принятый выше критерий отбора заставляет рассматривать в качестве общественных институтов лишь значимые для функционирования общества феномены.
Общественное самосознание Из относящихся к жизни общества феноменов сознания стоит упомянуть ещё только общественное самосознание. То есть осознание обществом самого себя как чего-то отдельного, особенного. Не с внутренней стороны, а с внешней — в отношении среды, то бишь природы, а главное, других подобных обществ. Характер этого сознания также в решающей степени определяется интересами господствующей метачасти. Ей выгодно противопоставление своего сообщества другим, запугивание соплеменников чуждостью и враждебностью окружающей среды. В такой атмосфере легче внушать чувства псевдопатриотизма и богоизбранности, сподручнее объявлять свой мир лучшим из миров (и нечего хаять наши порядки!), а главное — оправдывать усиленное отчуждение материальных благ у производителей — якобы на нужды защиты от всяческих поползновений извне. Ну, а поскольку радетелями общественных интересов представители группы-гегемона, естественно, выставляют себя, то они же и взваливают на свои хрупкие плечи тяжёлую долю распорядителей этих благ.
Логика распределения Обращаю ваше внимание на то, что как раньше я исследовал логику производства (а также и всех предшествующих феноменов), выявляя его характер и потребности, так и сейчас я рассматриваю характерные черты общественного устройства и сознания, прямо вытекающие из специфики распределения материальных благ. Именно неравновесный (причём неизбежно неравновесный) характер этого распределения определяет все вышеотмеченные особенности. Поэтому вкупе все эти вроде бы далекие от непосредственного распределения порядки и институты возможно определить как составные моменты системы распределения, как обслуживающие её факторы.
Непосредственное распределение Само же непосредственное распределение благ представляет собой своего рода двухэтажное строение. На первом этаже регламентируется и происходит распределение благ между разными группами общества, в котором предпочтение отдаётся, конечно, гегемону.
На втором этаже происходит делёж присвоенного уже между самими представителями доминирующей метачасти. Здесь тоже устанавливается определённый порядок, также в конечном счёте опирающийся на силу — как она представлена в данной группе (то есть в соответствии с тем, какими факторами силы она располагает — политическими или экономическими; ибо внутри себя не всякая группа может напрямую использовать насилие).
Таким образом, в обществе выделяются две системы отношений: между господствующей группой и другими социальными слоями, и между собственными её представителями. В порядках функционирования обеих этих систем как в зеркале отражаются свойства доминирующей группы, особенности её специфического (то есть функционального) положения в обществе, её организационные предпочтения, идейные, моральные и прочие установки. Именно метачасть-гегемон выступает в качестве активной обществоустроительной силы (естественно, не в роли полного демиурга, а лишь в рамках тех правил игры, которые очерчены характером практикуемого производства). Она и выстраивает общественные порядки вообще, а также и отношения внутри себя в соответствии с её собственным характером.
Значение особенностей групп Это последнее умозаключение следует подчеркнуть особо. Лицо всякого конкретного общества во многом определяется характером господствующей группы. Именно её особенные черты отражаются в системе политического управления обществом, в содержании общественного сознания, а также и в организации распределительных (если можно так выразиться, "собственнических") отношений. Ориентируясь на свои специфические нужды, эта группа устанавливает законы, формирует право, вступает в те или иные контакты с другими обществами. Её специфические интересы, безусловно, сказываются и на функционировании других групп, каким-то образом их деформируя, подстраивая под общие навязанные обществу принципы организации. Тем самым анализ характера господствующей метачасти представляется необходимым для понимания устройства соответствующего конкретного общества.
Классы Решающее значение для жизни общества групп, ведающих распределением, выдвигает их на авансцену истории, отличает от прочих метачастей. И ставит их по уровню значимости на одну доску с производительными группами. Эти два основных подразделения в структуре общества я называю классами. Классы — это функциональные группы, метачасти общества, занятые в решающих сферах общественного бытия — производстве и распределении материальных благ. Выделение их изо всех прочих групп производится ввиду их определяющей роли в бытии общества. Одни классы определяют его существование, другие — лица необщее выраженье.
Эксплуатация При этом отмечу реальное антагонистическое положение указанных классов. Они находятся на разных полюсах процесса. Одни производят, расходуют энергию, другие — отчуждают произведённый продукт силой, ибо иначе в неравновесном распределении быть не может. Производящие классы выступают страдающей стороной. Такое неэквивалентное, безвозмездное отчуждение их труда называется эксплуатацией.
Понятно, что в лице производящих и распределяющих классов имеются два конца вольтовой дуги, между которыми присутствует постоянное напряжение.
Необходимое уточнение В связи с этим в нарисованную выше картину необходимо внести некоторые коррективы. До сих пор я исходил из того, что всякая метачасть стремится добиться для себя привилегированного положения в потреблении материальных благ. Этот тезис остается без изменений. Все "хочут". Хотя и не все могут достичь желаемого. Ввиду того печального факта, что не хватает силёнок для установления своего господства.
Однако возможен и иной вариант толкования этой формулы. Иные группы "хочут, да не могут" по другой причине. Потому, что не способны по своей природе, положению в производстве и обществе установить систему неравновесного распределения. Это касается собственно производящих классов.
Почему не могут? Выше был определён феномен эксплуатации. Неравновесность системе распределения придаёт именно она. Суть её в том, что господствующая группа отбирает в свою пользу больше благ, чем следует согласно полезности (отдаче) реально выполняемой ею функции. Отбирает их эта метачасть, понятно, у производителей, ибо больше отбирать не у кого.
Производители, окажись они у руля распределения, эксплуатировать сами себя, разумеется, были бы не в состоянии. Содержать же другие группы им пришлось бы — согласно требованиям производства. Причём содержать в таком объёме, какой необходим объективно; неизбежным было бы отчуждение в пользу групп-содержанок такого количества материальных благ, которое их удовлетворяло бы. Иначе никто просто не стал бы выполнять соответствующие общественно-важные функции. Все дружно перешли бы в класс производителей.
Ахиллесова пята производителей в том, что они не могут не производить, ибо вынуждены обеспечивать своё собственное существование. У них есть, что отнять. У непроизводителей же отнять нечего. Их труд можно только купить. Если не оплачивать этот труд по его действительной стоимости и даже цене (определяемой общественной потребностью в данном виде труда), то никого и не заставишь трудиться. Господство производящих классов в обществе закономерно должно сопровождаться установлением равновесной системы распределения и отменой всех тех аксессуаров, без которых не может обойтись неравновесное распределение.
Но это рассуждение чисто теоретическое. Практически же в истории доселе имелась и имеется только и именно та картина, что нарисована выше. Поскольку у производящих классов, как отмечалось, не доставало и не достаёт сил для того, чтобы взвалить на себя сладкое бремя власти.
Ну и так далее для тех, кто заинтересовался www. materialist.kcn.ru/theory_of_society/theory_of_society1/theory_of_society1-2.htm
|